2025
2025
2024-04-18
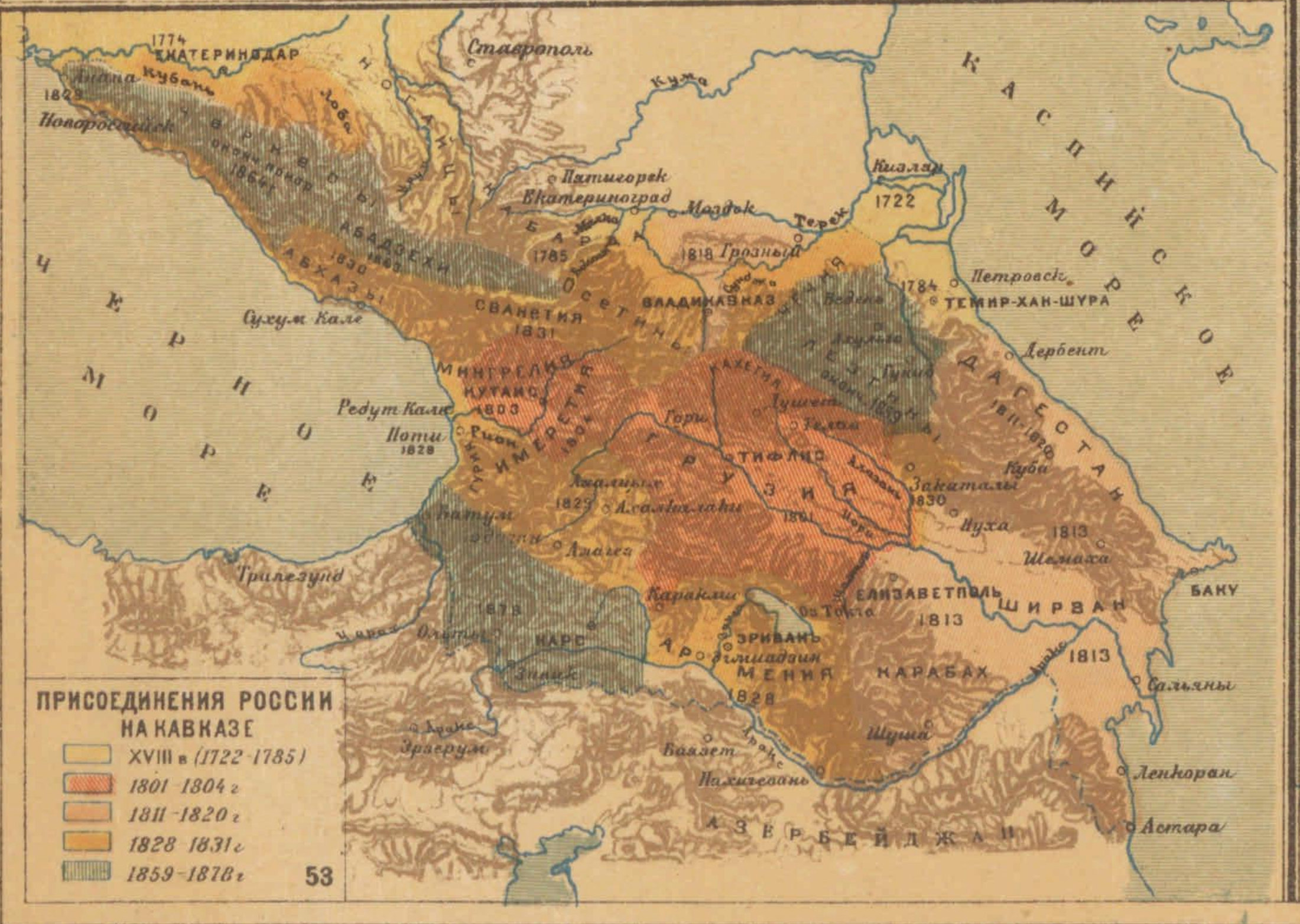
Во второй половине XVIII в. перед закавказскими владетелями стояла непростая задача сохранения суверенитета. Южный Кавказ был политически неоднородным и состоял из нескольких влиятельных политико-административных единиц: Картли-Кахетинского царства, Карабахского, Шекинского и Кубинского ханств. Сохранение этого баланса сил между ханами и правителями на Кавказе в конечном итоге было предпочтительным как для Российской и Османской империй, так и для ослабевшего и раздробленного Ирана.
С другой стороны, помимо обретения самостоятельности, ханства Восточного Закавказья получили возможность установить независимые отношения с Иранской империей, Российской и Османской империями. Дипломатические навыки были необходимы, чтобы поддерживать независимость ханств и заботиться об их собственной безопасности. В этот период самостоятельная реализация этих задач стала практически невозможной: нужно было найти сильного и надежного союзника. В отсутствие единого государства в Иране выбор между союзниками должен был быть сделан между Османской и Российской империями.
Известно, что в время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. как русская, так и турецкая стороны искали если не военной, то хотя бы дипломатической поддержки ханов и владетелей. Накануне войны российским властям потребовалась политическая поддержка влиятельного правителя Восточного Закавказья Фатали-хана Кубинского. Заручившись его поддержкой, российская сторона старалась нормализовать свои отношения с остальными закавказскими ханами и дагестанскими владетелями, чтобы контролировать их связи с Османской империей.
На протяжении всей войны османский султан отправлял дагестанским правителям деньги, подарки и просил Фатали-хана поддержать турок во имя веры. Фактически, в 1768–1774 гг. территория Восточного Закавказья не являлась зоной боевых действий, но была пассивным участником войны и оказалась в разгаре информационной войны .
После русско-турецкой войны восточный вопрос обострился в международных отношениях, что превратило территорию Османского государства в яблоко раздора между Россией и европейскими государствами. Согласно турецкой историографии, для Османской империи Кючук-Кайнарджинский мирный договор 1774 г. после Карловицского мирного договора 1699 г. стал самым тяжёлым. С другой стороны, хотя по договору Османская империя утратила политический контроль над крымским ханством, а протяженность государственных границ была резко сокращена в пользу России, османское государство продолжало сохранять своё политическое влияние на Кавказе. Следовательно, российское военное присутствие в прикаспийских областях османской стороной могло бы рассматриваться как сигнал для реванша. Этим объясняется тот факт, что когда генерал де Медем самовольно взял Дербент, а Фатали-хан отправил ключи от города императрице, то Екатерина II заметила, что «чёрт велел к Дербенту идти». На полях письма Г. Потёмкина о политическом состоянии дел на Кавказе, красным карандашом пишет: «Советую возвратить: его превосходительства кратчайшее дурачество из дурачеств есть лучшее». Одновременно принимается решение о восстановлении власти Дербентского и Кубинского Фатали-хана.
С ключами от Дербента Фатали-хан отправил письмо на имя Екатерины II, дипломатично напомнив о дружеских отношениях его деда и отца к российскому престолу. Хан отмечал, что во время русско-турецкой войны посланники османского султана, приехавшие в Карс, тщетно пытались расположить его к себе дорогими подарками. Он требовал политического статуса, подобного крымскому хану и грузинскому царю. Одновременно Фатали-хан подчёркивал, что ставленники Керим-хана тоже хотели «склонить» его в сторону Ирана с помощью дорогих подарков, войск и больших денег, но он остался верен российскому престолу. Фактически Кубинский хан подчеркивал своё политическое значение для государственных интересов России в Восточном Закавказье, требуя за это высочайшего покровительства.
Императрица Екатерина II, принимая во внимание политические события вокруг Восточного Закавказья и в то же время не желая обострять отношения с Ираном и Османской империей, в рескрипте на имя генерал-поручика де Медема 28 июля 1775 г. писала, что владения Фатали-хана и «он по своему месту принадлежит к Персии и потому без предосуждения» России «с сею державою положению дел отторгнуть от неё быть не может».
Закавказские ханства поддерживали активные политические контакты и с правящими кругами Ирана. Так, российские власти были проинформированы, что в 1777 г. Кубинский хан попросил Керим-хана Зенда о вспомогательных войсках, пообещав выдать его сестру замуж за брата векиля. Фатали-хан заявлял, что русские войска на его территории не оказали никакой помощи в борьбе с его врагами, и попросил разрешения у Керим-хана изгнать их из Дербента.
Еще во время турецко-иранского конфликта в 1776–1779 гг. султан Абдул-Гамид I восстановил отношения с кавказскими владетелями, чтобы не допустить их сближения с Ираном. Кроме того, Ахалцихский Сулейман-паша получил от османского султана указание сформировать антироссийскую коалицию из восточнокавказских ханов и дагестанских правителей. Во время возможного военного конфликта с Ираном султан пытался дорогими подарками и обещаниями заручиться либо поддержкой ханов, либо их нейтралитетом.
Таким образом, владетельные ханы, опасаясь усиления русского влияния в регионе, склонялись к Османской империи. С другой стороны, ханы и владетели Восточного Закавказья для сохранения собственной безопасности и самостоятельности были привержены политики лавирования между Ираном, Россией и Турцией.